- Афонские четочные правила
1 неделя 17 часов назад - О четочном правиле.
1 неделя 20 часов назад - 19595 Это у Вас в первый раз? Подумайте о походе на Исповедь.
1 неделя 5 дней назад - 19595 Хула на Духа Святого
1 неделя 5 дней назад - Можно легко
2 недели 6 дней назад - православный христианин
3 недели 14 часов назад
Я монах Софроний! Поминайте меня! — афонский сиромах не имеет крова над головой и живет тем, что Бог подаст
Посетивший Афон в начале восьмидесятых годов священник Русской Православной Церкви Заграницей Валерий Лукьянов еще застал представителей этого редкого вида монашества:
«... возле ожидающей группы монахов и паломников появился вдруг сиромах. В потрепанной выцветшей ряске, он с трудом нес за плечами свое несложное земное достояние: несколько посудин, какой-то ящичек и еще кое-какое тряпье. Его изможденный и, несмотря на внешнюю убогость, все же исполненный достоинства и радости вид, с устремленным в горние пределы взглядом, запечатлелся навсегда как подлинный облик святогорского подвижничества»*.
Это свидетельство стоит многих рассуждений о «жизни по своей воле». Афонского паломника трудно обмануть: у него появляется особое зрение.
«Что же касается вообще афонских сиромахов, то об их жизни можно было бы написать целые книги: настолько она разнообразна и полна возможными эпизодами... от умилительно-поэтических и до полных сурового трагизма».. Так писал Маевский.
«…Можно было бы написать…»?
Но, каждому паломнику, выходящему за пределы монастырей, вернее, вышедшему за рамки движения от одного большого монастыря к другому, приходилось видеть останки отшельников, лежащие прямо на месте совершения подвигов. Также лежат где-то и останки сиромахов, ожидая общего Воскресения.
Но чьи это кости, кто подвизался и какие подвиги совершал, уверяю вас, почти никто из насельников близлежащих монастырей не знает. И это не отсутствие любопытства, а, увы, некоторое охлаждение к подвигу, ибо есть усилия духовные и телесные, направленные к благим целям, но нет того благочестия, которое желает расти, а оттого требует питания примером и поучением. Из-за этого забвения вряд ли удастся написать книгу, о которой говорит Маевский.
* * *
На арсане Зографа к нам вдруг подлетел плотный монах маленького роста, исполненный необъяснимой радости. Радость его еще увеличилась, когда он узнал, что мы русские. Мы не сразу поняли, куда была направлена его активность. Он затащил нас в комнату, очень быстро откуда-то извлек почтенного белобородого старца, быстро под руку привел его к нам и не менее быстро сварил кофе и угостил всех нас. Старец тоже очень радовался русским, воспоминания о которых у него, наверное, относились если не к началу века, то, по крайней мере, к предвоенным и военным временам. Казалось бы, восторгу нашего благодетеля не будет предела. Вот уже кому-то он подарил четки. Кому-то уже успел объяснить, что сейчас он едет на агрипнию в скит св. Анны, а затем будет на Панагире в нашем Пантелеймоновом монастыре. При этом он бьет себя в грудь кулаком и говорит: «Софрониос». Его имя Софроний. Он даже пишет его на бумажке. Но вот появляется, наконец, корабль, и мы расстаемся.
Через год кто-то окликает меня: «Монах Софроний, поминайте меня». Я вижу перед собою отца Софрония, такого же радостного и веселого, как и год назад, но вдруг через секунду он устремляется к проезжающей мимо машине и уносится от стен Великой лавры. Нельзя, наверное, на горе Афон не встретиться с этим сиромахом. Через некоторое время я узнаю его краткую историю.
Говорят, что спасался он ранее в монастыре Есфигмен, но впал в прелесть и чуть не окончил жизнь самоубийством. Говорят, что одно время он был богат и содержал в Карее одну из лавок, которые смущают своим видом «свежих паломников», и торговал весьма успешно. Но оставил это не монашеское занятие и, наверное, с тех пор ему так легко и радостно. Встречая кого-нибудь, он кричит: «Я монах Софроний! Поминайте меня!» И стремительно движется по одному ему известному маршруту.
И совсем не удивляюсь, когда в коридоре архондарика Пантелеймонова монастыря я слышу за спиной голос: «Монах Софроний. Молитесь обо мне». Я успеваю только спросить: «Куда вы идете?» «Есфигмен, Ватопед», – терпеливо удовлетворяет мое любопытство о. Софроний. Маршрут предельно ясен. 31 августа по православному юлианскому календарю в Ватопеде большой праздник – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Часть пояса находится в Ватопедском монастыре. Успеваю еще спросить: «Где Вы живете?». Отец Софроний делает круговые движения руками. «Везде?» – переспрашиваю я. «Да, да», – слышу в ответ. И через несколько секунд уже где-то за углом: «Я монах Софроний, поминайте меня».
Может быть, кто-то внутренне усмехнется, сравнив маленького, нормально одетого, радостного человека с исхудавшими сиромахами, изведавшими и холод, и голод. Но если для современного афонского монашества сделать поправку, учитывающую немощь, родившуюся от пользования «благами прогресса», то отец Софроний – это несомненный сиромах. Тем более, что он, оставив губительное благополучие, несет все трудности, которые дает ему Бог. Поминайте монаха Софрония.
* Священник Валерий Лукьянов. Святая Гора Афон – земной удел Божией Матери. Джорданвилль, 1973 г.
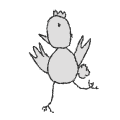
Комментарии
Задайте ВОПРОС или выскажите своё скромное мнение:
Может быть автор поста что-нибудь больше скажет
Я его не разу не встречал, хоть и часто бываю на Святой Горе Афон, и даже жил там долго.
Может быть автор поста что-нибудь больше скажет, когда зайдет на сайт.
Рады будем, если что-то будете писать на этом сайте.
Ваш блог: Кира Хабарова's блог (/Kira-Habarova-blog).
Был вопрос к тебе: жив ли монах Софроний?
"я, монах Софроний!"