- 19596 "Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных..."(1Фес.5.14)
1 день 5 часов назад - 19596 Убийство - предельная противоположность любви
1 день 5 часов назад - 19596 Все написано по-русски
1 день 6 часов назад - 19596 Хвалю, Писание знаете.
1 день 6 часов назад - 19596 А судьи кто?
1 день 6 часов назад - 19596 А какой смысл?
1 день 6 часов назад - 19596 Верно, власть от Бога, но пользующийся этой властью следует ли за Богом?
1 день 6 часов назад - 19596 Согласен со словами апостола Павла
1 день 6 часов назад - 19596 Мне кажется, Вы не вникаете в смысл написанного.
1 день 6 часов назад - 19596 Да, уж...
1 день 6 часов назад - 19596 Любая власть от Бога
1 день 8 часов назад - 19596 Разве Христос поставил людей бороться с грехами других людей, а не со своими?
1 день 8 часов назад - 19596 Любой христианин - пацифист, но не любой пацифист - христианин
1 день 8 часов назад - 19596 Как я должен ответить, как человек или как священник?
1 день 9 часов назад - 19596 Убийства на войне или аборты?
1 день 10 часов назад - 19596 Убийства на войне или аборт на раннем сроке?
1 день 11 часов назад - 19596 Аборт на раннем сроке или убийство на войне?
1 день 11 часов назад - Афонские четочные правила
1 неделя 5 дней назад - О четочном правиле.
1 неделя 5 дней назад - 19595 Это у Вас в первый раз? Подумайте о походе на Исповедь.
2 недели 3 дня назад
Для христианина является Родиной и Святая земля, и Афон, и вообще всякое святое место на Земле
Уже несколько раз мне приходилось ступать на эту землю. Землю, казалось бы, для меня совсем чужую. Так мне думалось, когда в первый раз сошел на афонскую пристань. Чужую – и по моему происхождению, и по нахождению вдали от границ России, и по самой природе, которая для меня, северного жителя, ни разу не бывавшего в южных широтах, крайне непривычна.
Но вот, однажды я пришел в эту землю, и с тех пор она стала для меня родной.
Для всякого христианина является Родиной и Святая земля, и Афон, и вообще всякое святое место на Земле. Каждое место, имеющее особое благословение от Бога, – это как бы частица рая, цветущего своими диковинными для нас цветами. Надо только уметь увидеть этот божественный сад. Такое видение приходит не сразу, но, когда все больше погружаешься в тенистые заросли такого сада, духовное зрение постепенно обостряется, – и ты прозреваешь.
Но даже среди этих дивных уголков, где небесное является в земном, Афон занимает особое место. Это Вертоград Божией Матери, удел, жребий, данный Ей Самим Богом. Это сад, полный и большими деревьями с густой кроной, под которыми хорошо укрываться в жару, и благоухающими цветами, поражающими нас своей красотой. Но не всякий сразу заметит этот сад, для кого-то это лишь голые скалы и безжизненные дебри. Чтобы ощутить Афон, надо знать, кто жил на этих скалах раньше. И как жил! Для этого надо почувствовать, кто живет здесь сейчас.
Да, несколько раз я уже бывал здесь, но все так же волнуется сердце и жаждет встречи с этой землей. Вот, снова мы отплываем из Уранополиса. Вот уже знакомые нам молчаливые скалы, поросшие непроходимыми зарослями кустарника. Вот Кромница. Вот скит «Новая Фиваида». Здесь русский игумен организовал своеобразную афонскую богодельню. В этом скиту поселялись русские престарелые иноки, неспособные уже трудиться и поэтому не имевшие возможности обеспечить себя даже самой скромной афонской пищей. А еще по греческой традиции надо было платить монастырю, на территории которого находилась келья, ежегодную арендную плату. В начале века тут проживало по-отшельнически 150 таких подвижников, которые сходились в соборный храм Всех преподобных афонских по воскресным дням и праздникам.
А вот и Иваница – пристань сербского монастыря Хиландарь на западной стороне полуострова. Она была устроена русским старцем карейской кельи сщмч. Игнатия Богоносца иеросхимонахом Моисеем, впоследствии именно здесь встретившим свою мученическую кончину от руки неизвестного убийцы 9 марта 1908 года... На афонской пристани, арсане, нас ждет машина. Путь до Хиландаря, который находится недалеко от восточного берега, долог. Вот извилистой дорогой мы трясемся по ухабам, над пропастями и обрывами. Такова афонская природа. Накатанная дорога, – а сделаешь два шага в сторону, и – непроходимые заросли, которые расступаются только для того, чтобы дать место камню.
Вот русский скит Святой Троицы. Когда-то он был совсем заброшен, и пастухи загоняли на ночь овец в его храмы. Да, бывает и такое. Эта обитель была восстановлена после Русско-турецкой войны 1877–78 годов. В скиту появился русский архимандрит Мелхиседек, который очистил церкви и жилые корпуса от «следов» овечьего пребывания. Его преемнику, иеромонаху Нифонту, удалось возродить эту обитель. Когда же он закончил свои труды, сербский монастырь Хиландарь нашел ему новый фронт работ. Ему пришлось восстановить в Карее келью также во имя Святой Троицы...
Мне вспоминается история другой кельи, построенной тоже на земле монастыря Хиландарь. Только она расположена далеко отсюда: на дороге, ведущей из Нагорного Руссика в Карею и Ватопед. Неизвестно, доведется ли когда-либо побывать там. Мы много спорили о маршруте нашего паломничества, но предполагаемые маршруты явно не пройдут через этот пункт. Это келья святителя Иоанна Златоуста. Обитель эта древняя, основана еще в 11 веке, о чем была найдена запись при раскопках на месте старого храма. Ее возобновитель, иеросхимонах Кирилл (Абрамов), пришел на Афон в пятнадцатилетнем возрасте и принял постриг вместе со своим отцом в Пантелеймоновом монастыре. Сорок лет подвизался этот старец в монастыре и в разных русских кельях. И вот он переселился в заброшенную келью, пустовавшую 18 лет. Вокруг него быстро собралось братство в 90 человек. Устав был принят общежительный, поэтому правильнее было бы назвать эту келью монастырем. С разрешения Хиландарского монастыря о. Кирилл воздвиг великолепный храм во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского и Марии Магдалины в память чудесного спасения царской семьи во время крушения поезда в Борках. Ревнитель общежительного устава, он в 1896 организовал братство русских келиотов, одной из целей которого была помощь бедным русскими келиотам и отшельникам. Братство заботилось о ремонте храмов, помогало русским инокам сбывать свое рукоделие, которое служило им для пропитания.
Вот и монастырь Хиландарь. Есть два объяснения названия сербского монастыря. Первое: с греческого Хиландарь переводится как «уста льва» – так назывался древний город, на территории которого теперь стоит монастырь. Второе – из словосочетания «хилья» и «андра». Первое слово значит «тысяча», второе – «мгла». Во время набегов варваров те видели монастырь издалека, но многократно подходили к нему, и их окутывала мгла. Надо отметить чудесную помощь Божией Матери, сохранявшую монастырь от частых набегов грабителей и пиратов. Все афонские монастыри были разоряемы по 2–3 раза, но хиландарская обитель – ни разу. Царица Небесная так являла этому монастырю особенную защиту. История монастыря известна, наверное, многим.
Основан он был преподобным Саввой в 12 веке по совету тогдашнего прота. Трудно найти другого святого, который бы сыграл подобную роль в истории Сербии. Царский сын в иноческом образе начал славную историю и Хиландарской лавры. Да-да. Ранее монастырь Хиландарь назывался подобно детищу преподобного Афанасия – лаврой. В силу грамот сербских царей и хрисовулов Императоров, сербская обитель возобладала почти над всею Афонскою горой. И доныне только Великая лавра может сравниться с ней по обширности владений. Будучи славянским монастырем, Хиландарь первоначально предназначался исключительно для славянского племени. Сербская обитель настолько распространила славянский дух по Святой Горе, что даже в некоторых чисто греческих обителях стали употреблять славянский язык при богослужении. Об этом пишет ктитор Андреевского скита и исследователь Афона А.Н.Муравьев. Хиландарь пользовался особым вниманием сербских Царей, некоторые из них даже подолгу здесь живали. Когда наступило трудное время для Сербии, Хиландарь нашел другого державного покровителя – Царя Иоанна Грозного, который даже открыл подворье в Москве для помощи сербскому монастырю. Впоследствии, при Петре I, оно было ликвидировано. Монастырь Хиландарь был второй по чести, уступая первое место Великой лавре, но по умалении был передвинут на третье, а затем и на четвертое место. Теперь почти никто и не знает, что когда-то Хиландарь был лаврой. Но дело не в названии, можно, как угодно, называть этот монастырь. Дело в том, что Божия Матерь являет о нем особенное попечение, как это уже говорилось. Потому и почитание Божией Матери здесь особенное.
Входим в монастырь, идем за благословением к Самой Игуменье. Здесь обычное игуменское место в соборе занимает икона Божией Матери «Троеручица». И перед каждой церковной службой служащие берут благословение у Божией Матери, прикладываясь к этой чудотворной иконе. Прикладываемся и мы к ней. Преосвященный Порфирий считал легендой, что это подлинная чудотворная икона преподобного Иоанна Дамаскина. Подобные сомнения легко проникали в умы дореволюционного ученых монахов. Так, Авксентий Стадницкий, будущий митрополит Арсений, приводит это мнение ученого епископа в своих воспоминаниях о посещении Святой Горы. Мы же, люди 20, и даже 21 века, в какой-то мере освободились от слабостей эпохи 19 века с его псевдоученостью и рационализмом. Мы прикладываемся к этой святой иконе, и вряд ли кто-то из нас даже задумывается о возможности предпочесть преданию исследования ученого монаха. Подходим к отцу Кириллу, духовнику монастыря, и берем благословение. Он не говорит по-русски, но его речь, исполненная любви, очень выразительна и мы убеждены, что понимаем его. Позже мы узнаем, что он фактически постриженик Оптиной пустыни: его постриг один из оптинских монахов оказавшийся в годы лихолетия на сербской земле.
Вечером, по афонской традиции, после повечерия паломникам выносят для поклонения мощи. Мы прикладываемся. Вот честная глава того, кто жил почти три тысячи лет до нас. Я вижу её не впервые, потому что уже бывал в сербском монастыре. Но каждый раз поражает она меня своим удивительным цветом. Кажется, что она от древности превратилась в мрамор и поэтому имеет характерную пёструю окраску. Святый пророче Божий Исайе, моли Бога о нас!
Утром, вернее сказать, ночью, всё по обычному афонскому распорядку: полунощница, утреня, литургия. Хорошо в сербском монастыре ещё и потому, что у нас общий богослужебный язык. К сожалению, в Сербии применяется за богослужением и сербский язык...
Вот древняя башня, пирг, как ее здесь называют, построенная с целью защиты от пиратов. Вот руины древнего города. Дальше на нашем пути прекрасный хиландарский виноградник. Видя тогда достаточно крепкое сербское братство и множество крепких паломников и трудников, нам думалось, что Сербия еще жива. Хочется так думать и о России...
Дальше путь к морю. Невдалеке от монастыря усыпальница. Рядом особняком стоит большой крест. Под ним покоится один современный благодетель монастыря, который желал быть похороненным в монастыре и приготовил себе эту могилу. Когда же стал приближаться его час, то он поспешил в монастырь, но не успел и скончался, по-моему, в Иериссо, и приехал сюда уже только телом. Вот усыпальница, подобная всем афонским. Но что это: мы ощущаем приятный запах. Что здесь только что кадили? Или смазывали что-то благоуханным маслом? Наш проводник, который оказался профессором, правда, по технической части, объясняет, что это благоухают чьи-то честные останки, но определить среди множества глав и костей источник благоухания невозможно. Вот такое смирение после смерти. Кто-то из отцов напоминает приходящим о бренности нашей жизни и о святости тех, кто здесь подвизался. Заставляет и нас задуматься о своей жизни. Идём дальше...
Вот монастырь (скит) святителя Василия Великого, находящийся на землях Хиландаря. Это один из древнейших афонских монастырей. Внешне он более напоминает крепость: с трех сторон омывается морем, а с четвертой отчетливо виден полузасыпанный ров. Вход – через деревянный мост, который в древности убирался в случае опасности. Это живая иллюстрация к истории Афона, которая полна нападений разных пиратов, каталанцев и др. Сейчас монастырь этот пуст...
Мы возвращаемся обратно, завтра нас повезет машина извилистой дорогой по афонским кручам мимо бывшего русского скита Святой Троицы опять на пристань Иваницу, откуда мы продолжим свое путешествие. Хорошо сербское гостеприимство, но злоупотреблять им не стоит, как говорят по-русски, пора и честь знать.
... Но как уже говорилось не одними мощами, иконами и другими святынями славятся афонские монастыри. В них в них сохраняются традиции, живет православие, каким оно было при императоре Константине Великом. Именно этим и должны быть богаты монастыри Святой Горы...
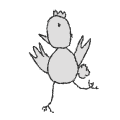
Комментарии
Задайте ВОПРОС или выскажите своё скромное мнение: